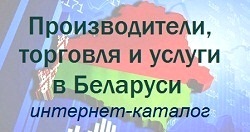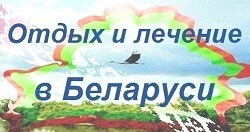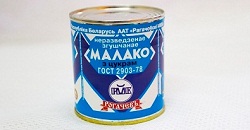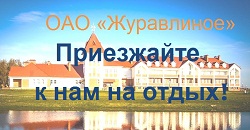Отечество
Нам необходима общерусская культурная идентичность
Что нужно сделать нам, русским людям – россиянам, украинцам, белорусам, чтобы сохранить свою общерусскую идентичность?

Каким образом идет сегодня атака на традиционную систему ценностей русского мира? Что нужно сделать нам, русским людям – россиянам, украинцам, белорусам – для того, чтобы сохранить и укрепить свою общерусскую идентичность? Об этом, и не только, газета «Союзное слово» беседует сегодня с президентом Института национальной стратегии, членом экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Михаилом Ремизовым.
- Михаил Витальевич, говоря о таком понятии, как русский консерватизм, мы не можем обойти традиционную систему ценностей нашего русского мира, главнейшим из которых является институт семьи. И сегодня против института нашей семьи со стороны неолиберальных западных политиков ведется самая настоящая война – в виде насаждения в странах русского мира ювенальной практики, подготовки общественного мнения к легализации гомосексуализма и лесбиянства, узакониванию однополых браков. Насколько опасной, и в какой степени критической вы оцениваете на сегодня ситуацию в этой сфере?
- Действительно, институт семьи – одна из главных опорных ценностей общества. Сегодня существуют два фактора его разрушения. Один – идеологический, он связан с пересмотром представлений о человеческой природе, заложенных в нашей культуре, пересмотром ролевых моделей поведения мужчины и женщины, отказом от идеи брака как союза мужчины и женщины для продолжения рода. Процесс этот во многом определен динамикой идеи эмансипации, которая изначально была связана с вполне позитивным движением за равноправие, но постепенно превратилась в нечто разрушительное для человеческой природы. Сегодня эта идея состоит в том, что те идентичности, которые даны, предписаны человеку от рождения, должны ставиться под вопрос и становиться предметом свободного выбора и свободной манипуляции. В результате возникает представление о том, что мальчика, рожденного мальчиком, недопустимо воспитывать как мальчика, «навязывая» ему мужскую идентичность – нужно предоставить ему свободу выбора и эксперимента со своей телесностью, своей социальной ролью и так далее. Отсюда императив усыновления детей гомосексуальными парами, «бесполые» методики воспитания в скандинавских детских садиках и т.д. В данном случае речь не о защите прав сексуальных меньшинств, а именно о разрушении базовых ролевых моделей, через которые в европейской культуре происходила социализация мужчин и женщин. Это тяжелый удар по европейской культуре и проявление ее деградации.
Но есть и другой фактор кризиса семьи как института. Он более спонтанный и естественный. Это ослабление моральных связей, образующих семью. Если мы посмотрим на Россию, где идеологическая концепция однополых браков не принимается большинством населения, где преобладают традиционные представления о роли мужчины и женщины, то мы, тем не менее, увидим очень высокую долю разводов и абортов. Россия в числе лидеров по этим показателям в мире. Это говорит о том, что в обществах, которые на уровне декларируемых ценностей принимают институт семьи, он, тем не менее, тоже разрушается.
- То есть, эту ситуацию можно определить уже как близкую к критической?
- Ситуация критическая в том числе и потому, что кризис такого рода означает депопуляцию – в частности, развитых европейских обществ. С одной стороны, мы знаем, что в принципе на этот вызов ответить можно, и были примеры, когда уже в современных, достаточно развитых, урбанизированных обществах достигалась высокая рождаемость – можно вспомнить Соединенные штаты в послевоенные годы, или привести в пример Израиль (хотя там высокая рождаемость достигнута за счет ортодоксальных иудеев). Но в целом, хотя некие шансы на повышение рождаемости в современном обществе есть, тем не менее, цивилизационное решение проблемы депопуляции развитых урбанизированных обществ пока не найдено и не очевидно. Для нас этот вызов куда серьезнее, чем идеологические атаки на семью. Хотя одно с другим, конечно, связано. Просто мы должны понимать, что пресловутые гомосексуальные браки опасны не сами по себе, а просто как очень наглядный симптом тяжелой социальной болезни, ведущей в конечном итоге к самоуничтожению европейской цивилизации.
- Михаил Витальевич, с точки зрения либералов-западников, понятие консерватизма преподносится нам как нечто реакционное и даже постыдное. Но так ли это на самом деле? Если взять нашу православную русскую духовность – то получается, что наша Православная Церковь не отходит от тех заповедей, тех основных постулатов христианских, которые были «модернизированы» западной цивилизацией, и за это нашу Церковь, ее иерархов те же либерально-христианские (точнее, псевдо-христианские) теоретики называют догматиками. Но давайте задумаемся: так ли уж плох консерватизм?
- Что касается консерватизма, то он бывает не только религиозным. Частью идеологии консерватизма является признание того, что мы не можем видеть человека, общество иначе, как в определенной системе координат, которая связана с религиозной картиной мира - той картиной, в широком смысле, которая задается базовым религиозным вероисповеданием. Но одно дело – признание культурной и социальной роли религии (это общее место консерватизма). А другое – ее практическое исповедание (это выбор отдельных людей).
Консерватизм – это идеология, которая утверждает, что современная цивилизация в целом находится в ситуации постоянного риска разрушения, размывания собственных основ. Пример – та же самая проблема депопуляции. Казалось бы, продуктивные и позитивные процессы – всеобщего образования или урбанизации, когда жизнь становится более комфортной, более технически оснащенной – тем не менее, приводят к падению рождаемости, что ставит вопрос об эволюционной состоятельности человечества, об эволюционном выживании тех или иных человеческих сообществ. Иными словами, консерватизм говорит об изнанке прогресса, социального и технического, о рисках, которые возникают по мере распада традиционного общества в процессе модернизации. Консерватизм как идеология не может обратить этот процесс вспять, но может попытаться в какой-то новой форме актуализировать ценности или социальные формы традиционного общества в обществе современном.
Пример – идея нации. Община, сама общинная модель отношений, по мере модернизации, урбанизации, неизбежно разрушается. Но некое подобие органических социальных связей (характерных для общины) консерваторы стараются поддерживать в обществе за счет идеи национальной солидарности, национального единства. Эта функция консерватизма – актуализация ценностей традиционного типа в современном массовом обществе – крайне важна для жизнеспособности самого современного общества. В этом смысле консерватизм как идеологическое течение является одним из «соавторов» современной эпохи, без которого немыслимо современное национальное государство – в том виде, каким мы его знаем, и которым дорожим.
- Как вы считаете, что в первую очередь может помочь сохранить свою идентичность нам, русским людям?
- Что касается сохранения нашей национальной идентичности, то ее матрицей является общерусская культура. И, разумеется, историческая память, которая может рассматриваться как один из аспектов культуры в широком смысле. Поэтому критически важно с точки зрения воспроизводства русской идентичности воспитывать подрастающее поколение на базе русской культуры. Очень важно давать классический эталон, который связан с тем периодом, когда эта культура обрела свое наиболее целостное воплощение – это XIX век, когда национальное самосознание русских приобрело форму развитого культурного канона. За это наследие нам надо держаться, воспитывая подрастающее поколение на его базе. При этом традиция должна быть живой, и очень важно, чтобы она продолжалась и развивалась на новом уровне.
Здесь, я бы сказал, очень важен вопрос о современной русской словесности и о современной культуре в целом. Потому что именно способность продолжать свое наследие является одним из признаков жизнеспособности народа. Культурная традиция – это не омертвевший канон, это некий процесс, в котором мы участвуем. Разумеется, я говорю не только искусстве и разных формах творчества, а о самом способе восприятия мира, формах мышления и действия, исторической памяти, которые выражаются и через творчество, и через другие практики.
Особенно я бы подчеркнул роль исторического самосознания как ингредиента нации. По происходящему сегодня на Украине мы видим, что в основе трагических событий там лежит не лингвистический конфликт, а конфликт разных моделей исторической памяти. И «линия водораздела» пролегает здесь именно по принципу приверженности той или иной концепции исторической памяти.
- То есть, страшнее всего получается в истории тогда, когда у людей отнимают историческую память, заменяя ее псевдоисторией?
- К сожалению, это так. На самом деле, можно ведь целое поколение превратить в янычар. Кто такие были янычары? Это были дети из завоеванных турками стран, прежде всего, славянских, которые с детства воспитывались в исламе и поклонении турецкому султану, они становились его верными слугами и воинами. А ведь такими янычарами могут становиться целые поколения и очень большие группы людей. К сожалению, такими вот янычарами стала значительная часть украинцев, принявших антирусскую идентичность. Характерно, что раньше Галиция была регионом с развитым русским самосознанием – именно русским. Но по мере некой культурной мутации, и сознательных усилий интеллигенции, политических сил, как внешних, так и внутренних, идентичность русская сменилась там на антирусскую. И эта культурная модель захватила большую часть страны. Но самое страшное – такими же янычарами могут стать и сами русские в России, если мы не будем сознательно заниматься рекультивацией своей исторической памяти. В данном случае я исхожу из того, что русская культура является общим цивилизационным наследием для русских, украинцев и белорусов.
- Но ведь русская культура своими духовными корнями уходит в православную русскую веру?
- Бесспорно. Но точно так же мы можем сказать, что и православной вере эта культура придала свой особый колорит, отличный от Византии или Балкан или Ближнего Востока. Реальность на сегодня такова, что большая часть носителей русской идентичности, хотя и определяют себя как православных, не являются людьми глубоко религиозными. Поэтому наша национальная идентичность должна быть более широкой, способной включать в себя как людей воцерковленных, так и людей светских. При полном понимании того, что и те, и другие существуют в системе координат христианской культуры.
Беседовал Андрей БОБОК
НАША СПРАВКА
Ремизов Михаил Витальевич.
Политический публицист, политолог, философ. Президент Института национальной стратегии, председатель Президиума Экспертного совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.
Родился 14 ноября 1978 года в г.Воронеже. Окончил философский факультет МГУ, кандидат философских наук. Автор книги «Опыт консервативной критики» и большого числа статей в периодической печати.В разное время был редактором отдела политики «Русского журнала» и главным редактором Агентства политических новостей, ведущим программы «Русский консерватизм» на Русской службе новостей, возглавлял Фонд поддержки гражданских инициатив «Стратегия 2020».
Сфера научных интересов Михаила Ремизова — политические идеологии (консерватизм, национализм), теория модернизации, теория суверенитета. Один из ведущих экспертов по теме русского национализма. Автор монографии «Опыт консервативной критики» и более 200 научных и научно-публицистических статей. Научный редактор и соавтор более 40 аналитических докладов по вопросам внутренней и международной политики.